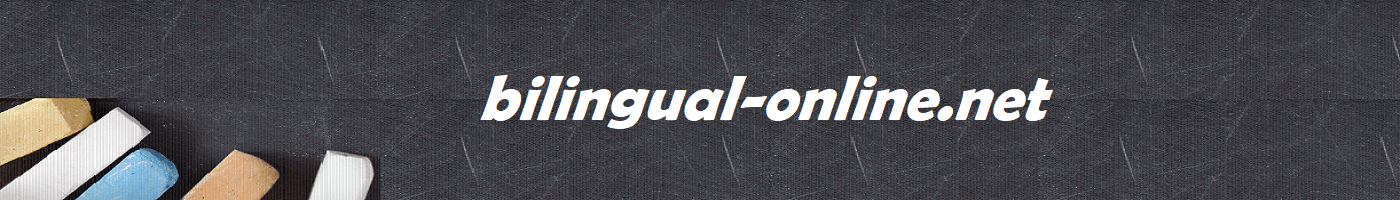опять осень…
опять шторма…
опять крыша…
… вагончик!
что-то еще есть, несущественное, общественное, что меня отвлекает, но потихоньку развязываюсь и с этим вот, например, с интервью Сергею Середенко для “Балтийского мира”, которое Кондрашов урезал в 3 раза до 8000 знаков – забавно, что отсюда могло попасть в журнал такого концептуального. Электронной версии БМ нет, поэтому привожу свою расширенную версию.
С преподавателем Таллиннского университета, социологом и общественным деятелем Дмитрием Михайловым беседовать пришлось сразу после круглого стола «Русская школа и Русская Община Эстонии», организованного Советом объединения «Русская школа Эстонии». Так что тема «европейских русских», которую часто озвучивает Михайлов, явилась логичным продолжением дебатов.
БМ: «Европейские русские» – так правильно?
ДМ: Да.
БМ: Тогда давайте определим сердцевину этого явления – ценностный ряд. Вот доктор экономики Владимир Вайнгорт категорически отказывается говорить о «русской общине» вообще, в лучшем случае – о «русском этноязыковом множестве». И утверждает, причем доказательно, что никаких общих ценностей у «эстонских русских» нет. А что с «европейскими русскими»?
ДМ: Ну, уважаемый экономист может себе такое позволить, если имеет в виду только либеральные ценности рынка. Хотя сразу оговорюсь, что «европейские русские» – это не партия, не движение, не фронт и не гражданское ополчение каких-то «западников». Утверждать, что 5-миллионная русская диаспора в Европе самоорганизована в общины – тоже нонсенс на 90% процентов. Но по поводу 1, 5-миллионной диаспоры «прибалтийских русских» готов уже поспорить. Здесь продолжает формироваться крупное региональное евроменьшинство с очень похожей шкалой ценностей. Это серьезное социологическое явление, и я к нему именно так и подхожу все эти годы. И подход этот объективно оправдан, подтверждается результатами сопоставимых исследований. Русские в Европе действительно обнаруживают близкую к среднеевропейским «стандартам» шкалу ценностей. Но с сохранением существенных субкультурных отличий, не стираемых даже в результате ассимиляции.
В случае «прибалтийских русских» я опираюсь на результаты специальных исследований динамики изменения ценностых ориентаций эстонцев, латышей и литовцев, а также русских в этих странах Балтии, социологами Тартуского университета в 1993/1994 и 2007/2008 году (рук. проф. Марью Лауристин). А также на предварительные результаты повторных исследований (1994 и 2004) всеевропейского проекта динамики социально-демографических процессов на уровне семьи, которые проводились в нашем Институте демографии. Так вот, общая тенденция резких сдвигов на «европейской шкале ценностей» сводится к тому, что на фоне общей дискриминации (наличие мощного, до 1/4 средней зарплаты, дискриминационного фона строго доказано недавно молодыми эстонскими экономистами) ценность «социальной справедливости» с большим отрывом доминирует, сразу вытеснив оттуда традиционную социалистическую ценность «равенства». Это самая сильная и необратимая инверсия в нашей ментальности «европейских русских» – в нас поселилось обостренное чувство несправедливости капиталистической действительностью. Чего нельзя сказать о титульных нациях, обретших хозяйский вкус к жизни и отбросивших ценность равенства далеко вниз, где оно никогда не было на шкале среднего европейца, не говоря о пропитанном ценностью равенства скандинавском обществе.
БМ. У эстонцев, очевидно произошел побег в собственный язык понимания ценностей «равенства» и «справедливости». где восстанавливается «историческая справедливость». ДМ Совершенно верно. Даже в контексте трех «высших ценностей» (безопасность семьи и здоровье) присутсвует сильный мотив «национальной безопасности» и (демографического) здоровья своей нации. Некоторая аномалия наблюдалась у русских Литвы: везде в Европе ценность «богатства» и «религия» где-то в самом низу (так называемые тяжелые ценности), а у них наверху, где -то рядом со справедливостью. То ли просто брак исследования, то ли какая-то протестанская реакция на католицизм литовцев.
Исследования эти показывают, что нет никакого смысла говорить о том, что все мы тут «рабы либеральных ценностей» – это далеко не так даже в Западной Европе, где рассуждать о «ценности капитализма» это опускать себя в глазах среднего европейца, потому они и «базовые», что проваливаются на самый низ ценностной шкалы. Тут можно вспомнить, что именно русская культура сумела сохранить раннехристиаскую «ценность бедности», нестяжательства нищих духом.
БМ: То есть «европейская русскость» – это срез ментальности, настроений?
ДМ: Да. способ уйти от проблемы русской общины, если угодно. Повторюсь, что об общинности, о «русском мiре» в европейском контексте говорить не приходится. По крайней мере в массе своей, исключая совсем уж эндемические анклавы старожилов, вроде религиозных общин наших старообрядцев. Рядом с матушкой Россией, но на всякий случай вне ее, – так безопаснее. Тоже европейский опыт. Поэтому попытки деятелей русской диаспоры территориально мобилизовать свои «общины» по странам проживания или ценностно формализовать «европейских русских» в некую гиперобщину Евросоюза, социологически наивны, на мой взгляд. Мы живем в настоящем рассеянии, но объединяющаяся Европа нас сплачивает – наша судьба как бы вернуть целостность Еврепе, напомнить западной части империи о ее общих корнях с византийской империей. Это совсем другого типа общность, «общность судьбы». Тут Европейская партия или Русский Альянс нас не защитит от дискриминации мигрантов, тут речь идет как бы о преодолении вселенской, тысячелетней «дискриминации».
БМ: Тем не менее «европейским русским» пытаются приписать некую общую идеологию и способы интеграции – опираясь на «общеевропейские ценности» и работу через «общеевропейские структуры».
ДМ: Да, такие попытки есть, но для социолога они не очень интересны. там тоже процветает дискриминация. Гуманитарные европейские фонды действуют через государственные структуры, поэтому «третий сектор» в Эстонии полностью огосударствлен. Хорошим уроком для меня был опыт сотрудничества с еврофондами в середине девяностых – когда речь шла о крупном проекте развития и поддержки национальных меньшинств, где правительство Эстонии дало гарантии профинансировать свою часть (самофинансирования) в размере 1 миллиона крон, что уже были огромные деньги по тем временам сплошного нищенства культурных обществ. Лоббисты наши были на уровне, и мы готовились к открытию своих изданий и радиопередач, проведению конференций, организации школьного дела… И деньги действительно выделили меньшинствам. Только не культурным – сексуальным. После этого телега покатилось, мы еле успевали следить за распилами европейских денег – и все мимо нас. Так что социологу тут делать нечего – теперь это хорошо поставленная индустрия по обслуживaнию государственных программ «интеграции инородцев» с оборотом более 100 млн крон в год. Впечатление такое, что европейские структуры не хотят иметь дела с «европейскими русскими» напрямую, а для национальных государств мы ничем не отличаемся от новопоселенцев, старожил в 5 поколении, проинтегрированный здесь еще со времен Петра Первого, стоит в этой общей очереди за своей нищенской похлебкой культурного меньшинства. Точнее, не стоит, а уходит, сплюнув сквозь зубы.
БМ: Да, кризис все чаще заставляет русских задумываться об отъезде из Прибалтики. «Европейские русские» едут в Европу, а просто русские – в Россию?
ДМ: типа того, да. Я не уверен, глядя на моих взрослых детей, но мои коллеги-демографы уверяют, что отъезд «наших» в Европу – это возвратная миграция, не убыток, а прибыток, мол, миграционный оборот налаживается теперь в другую сторону. Хочется верить. Например, журналист Хейнрих Ламволь лет пять назад плюнул смачно и уехал из Таллина в Англию, и глянь, вернулся-таки в этом году в Ригу, чтобы возглавить издательский дом Всемирной ассоциации русских писателей. Знай наших! У меня от сердца отлегло, аж писателем захотелось стать. Но чаще вопрос стоит самым драматическим образом – к моему удивлению, даже старожилы оказываются невостребованы со всей своей европейскостью и частными архивами. Даже такие монстры культуртреггерства как последний из поколения хиппи, Сассь Дормидонтов. Ожесточаемся как Карэн Драмбян, хоть иди стрелять (ся)… даже самые упертые еврорусские западники, начинают поворачивать головы в сторону России. Малая родина стала уродиной, идет процесс дезинтеграции старожилов – это факт. Упрямый социологический факт, увы.
БМ: Поговорим о другом местном феномене – балтийских немцах. Что их отличало от «материковых» немцев – не проживание ли рядом с эстонцами?
ДМ: Скорее, наоборот, эстонцев и местных русских отличала историческая связь с укорененными здесь сотни лет остзейцами. Земства балтийских немцев существовали вплоть до 1918 года, когда в самой Германии феодализма уже в помине не было. А тут процветал вовсю. Собственно, Железная дивизия, победу над которой в гражданской войне эстонцы празднуют как день Освобождения, – не что иное, как феодальная дружина рыцарей, потерявших свои привилегии и поместья. Судьба русских старожилов так или иначе также была обусловлена столетними традициями остзейсского порядка. Например, моя бабка – дочь привезенной из Силезии немецкой гувернантки, которую Тойлаский барон выдал замуж за своего придворного эстонца. Осиротев, она повторила историю своей матери – только теперь ее выдали за русского пекаря. Традиция остзейского сиротства могла бы продолжится, но тут старый порядок наконец-то рухнул и чудом выжившая санитарка из тифозных бараков северозападной армии родила моего отца. И когда немецкие господа вернулись было за своими рабами снова он успел жениться по любви на свободнойсвоей однокласснице, моей матери, у которой все было наоборот – шестеро сестер и братьев и никаких тебе баронов-помещиков. Такая история.
БМ: После 1990 у «балтийских русских»Эстонии была ведь даже своя Русско-балтийская партия во главе с Сергеем Ивановым и германофилом Виктором Ланбергом.
ДМ: Не скажу, что идея была моя, но она витала в воздухе, – в 1988 мы уже создали нечто похожее – Общество русской культуры Эстонии, которое мне виделось тогда как ядро консолидации преимущественно старожильческой русской интеллигенции. Идея продолжить довоенные традиции европейских русских, в том числе дело строительства русской культурной автономии, витала в воздухе, да, но отлитая в политическую форму, она оказалась пустышкой. Как тебе известно эта и все остальные русские партии одна за другой сложились в матрешку единственной теперь Русской партии Эстонии, декларирующей свою правопреемственность с Русским национальным союзом 1920-х годов. Вот эта остаточная политическая структура, по существу полочная фирма, символическим образом и в чистом виде объединяет немногочисленную уже группу старожильческих русских Эстонии. Неправопреемные русские партии фактически все исчезли, а электорат отошел к центристам.
БМ: Кстати, старожильческим меньшинством вас стали называть совсем недавно, после того, как некто Сергей Середенко указал старожильческому лидеру Димитрию Кленскому на то, что термин «правопреемные граждане» – чисто политический, и непосредственным образом привязан к «теории оккупации», которую, скажем мягко, далеко не все разделяют. А «старожилы» – и правильнее, и не привязано к политике.
ДМ: Да, спасибо тебе. Наше Общество русской культуры, которое мы тогда учредили как старожильческое, даже декларировало свою аполитичность как политический принцип. Как условие создания открытой в обе стороны (в Европу и в Россию) культурной автономии. Будучи автором программной декларации Общества, меня выбрали председателем правления, но как только я полез в политику, мне пришлось снять полномочия. Здесь был, конечно, свой провокативный элемент дистанцирования, даже противопоставления правопреемных старожилов мигрантам-«новожилам», за что мне попадает до сих пор, особенно от политического публициста Михаила Петрова, но от поколенческой концеции старожильческого ядра русской общины я как социлог отказаться не могу. Что мы выросли среди эстонцев, и знаем эстонцев можно сказать лучше, чем они сами себя, к чему-то обязывает. Сперва это алиби работало в нашу пользу. теперь, скорее, наоборот. Ибо обнажает более глубокие различия, можно сказать – ценностные, хотя они еще более глубокие, бытийные, о чем с эстонскими интеллектуалами уже трудно разговаривать – не понимают, раздражаясь на какие-то древнерусские корни европейскости, на «русский мiр». Византия для них – синоним русской азиатчины. Поэтому, рискую сказать,что разговоры об эстонской ментальности (eestlus), через интеграцию с которой местные русские обретают европейскую благодать, просто нетерпимы, не говоря об эстонском национализме, который расцветает на этой почве. Красной тряпкой тут служит слово «корень», коренной. Я нахожу социологически очень удачным замену ддискредитированного термина «интеграция» на эстонское «lõimumine»=переплетение, где каждое лыко в строку. Но от «укоренения» даже мои просвещенные коллеги свирепеют. Для них нет срока давности, когда чужака можно было бы посвятить в аборигена. «100 лет одиночества» (три поколения), как прямо записано в законе у латышей, конечно анекдот. Но в мифологическом сознании наших с тобой эстонцев нет даже этого срока. Никогда вам не стать как мы, коренными, и точка! Чистый дискурс феодального суверена – остзейского немца, перенесенный на русских.
Когда я в начале 90-х заявлял, что «культурная автономия» для нас не пустой лозунг на потребу европейцам, а реальная программа деятельности, даже самые умные и просвещенные поджимали губы и отказывались даже обсуждать. Это сегрегация, ваше место рядом с нами, среди нас, или вы эстонцы, или вы предатели и вас нет для нас. На первых порах я долго переживал такого рода размолвки. Даже сочувствовал, что разрушаю их картину мира. Надеялся, что устаканится как-нибудь. Когда необходимость противопоставления лояльных русских мигрантам-оккупантам сама отпадет. Но она не отпала. – наоборот. Произошла своего рода инверсия: русские старожилы вдруг стали хуже оккупантов, ибо мы есть самые старые, самые опасные в своей исторической упертости оккупанты, одним словом – «коренные» оккупанты, враги, которых, в отличие от новожильцев, невозможно ассимилировать никакими программами интеграции. Такая вот националистическая инверсия дискурса. Теперь я могу увидеть его в любом националистическом комментариуме на Дельфи.
И уже не смешно, что в новом коалиционном договоре правящие партии договорились до точки – коренным русским меньшинством в Эстонии считать только причудских старообрядцев. Аминь.
БМ: В Конституции ЭР черным по белому еще стоит перечень коренных меньшинств, имеющих право на культурную автономию. И русские в том числе. Но некто Середенко указал тебе недавно, что в законе о культурной автономии стоит термин автономия «малой национальности», а не «национального меньшинства» как вы все привыкли думать. Для большой (русской национальности) коалиция обещает написать отдельный закон.
ДМ: Да, даже я, один из авторов этого закона от 1993 года, не поверил тебе, и даже проспорил ящик койчего. Видать община старообрядцев пролоббировала -теперь мы все у них в политических заложниках. Для меня не меньшим сюрпризом оказалось, что у нас зарегистрировали небольшую родноверческую общину «язычников». Их «верховный жрец» успел тоже подать заявку на учреждение своей культурной автономии. По моему, в России эти секты значатся в списках террористических организаций. Кажется, кто-то хочет столкнуть нас, еврорусских, с самыми махровыми русскими националистами, дискредитируя на корню старожильческую общину.
Невольно вспоминается время начала 90-х. «Мы вышли рано – до зори» как точно и проникновенно озаглавила свои заметки Татьяна Ясинская, инициатор первых региональных конференций «русских прибалтики», когда мы собрались в последний раз в Таллине в «Российском Доме» международного фестиваля «Восток-Запад». Это случилось накануне августовского путча 91 года, и воспринимается мною теперь как невольное прощание прибалтийских русских с Россией. В последний раз Татьяна собрала нас уже на коллоквиум в Германии, в Остзейской Академии Травемюнде под Любеком в 1996 году. Тоже символично…
С приходом независимости старожильческие связи распались, хотя на всех конференциях, на которых мы встречались, наша общинная совместность была видна изначально, без всякого на то обсуждения.
БМ: На чем основывалась эта ваша совместность?
ДМ: Например, в признании своим авторитетом Юрия Абызова, председателя Общества русской культуры Латвии, автора изданного в США фундаментального труда в 2-х томах – наиболее полной библиографии русских изданий довоенной Прибалтики, где Рига была главным центром русской диаспоры. Эту работу у нас потом по части публикаций по русской культурной автономии продолжила в своей докторской ученица проф. С. Исакова Татьяна Шор.
Потом совместность эта обнаруживалась в дружном противостоянии структурам, типа «интердвижения», чьим лозунгом была полная общинная сегрегация сверху донизу – свои школы, свои банки, свои магазины, все свое и русское. Мы пережили сильный напор со стороны русских националистов на конференции в Риге в 1992 году. Когда нас хотели выставить гнилой прозападной интеллигенцией. Тогда мы поняли, что органически не терпим никакой «вертикали власти». В результате я даже обнаружил себя, ненадолго правда, в лагере левых анархистов, и даже отрастил волосы. Хотя в старой рукописи своей докторской продолжал классифицировать старожильческие группы как преимущественно либеральные и правоцентристские. Чем вносил изрядную путаницу, не изжитую до сих пор. Идея культурной автономии, по-моему, прямо питается стихийным анархизмом молодежи, усиливающимся по мере своего здесь укоренения и отчуждения от государства. Карьерные ценности чиновника ее уже не колышат. Она ищет других форм самореализации. Анархизм как протестная реакция на дискриминационную политику либерального государтства лишает режимы этнического контроля их легитимной силы, повышая угрозу уличных бунтов. Типичная европейская комбинация. «Люблю страну, но ненавижу государство».
БМ: Как же все-таки совмещаются в старожилах «лояльность» и «нетерпимость»?
ДМ: Да позволено будет выразиться так: старожилы – это определенный тип культурно-автономной личности. Индивидуальность которой не уживается в коллективе себе подобных. Мы едва терпим друг-друга, ибо слишком похожи, имеем один социальный генотип, если можно так выразиться. Культурные и особенно политические объединения старожилов нестабильны и очень конфликтны, как показала практика. «Мы – монады», – как удачно нашелся Николай Мейнерт, влиятельный сегодня в Прибалтике журналист, когда он не стал еще даже редактором североевропейского журнала «Новые рубежи». Кстати, когда мы познакомились с ним на одной социологической конференции, то минут 15 как водится разговаривали на эстонском, пока не сообразили, что монадам пора переходить на свой родной. «Коллективный» русский старожил – это нонсенс. В Вильнюсе, да простит меня Сергей Раппопорт, еще чувствуется европейская аура старой еврейской обшины, в которой социолог города инстинктивно видит архетип и даже модель для всякой европейской диаспоры. До Холокоста Вильнюс был «северным Иерусалимом», вольным городом, центром старой черты оседлости евреев, составлявших половину населения города. Национальной столицей литовцев был Каунас, как у эстонцев Тарту. Но что у Вильнюса позади, у Таллина впереди. Срастающийся с Хельсинки, Таллин неумолимо превращается в часть крупнейшего интернационального магалополиса Петербург – Хельсинки/Таллин – Стокгольм. Здесь будет крупное гетто европейских русских, и здесь, в крупных интернациональных мегалополисах, центрах формирования интернациональной европейской обшности, будет происходить и агония национальных государств. Есть такая суровая социологическая гипотеза.
БМ: Можешь ли ты, под конец, назвать нам «настольную книгу» «прибалтийского русского». По аналогии с тем, что настольной книгой марксиста является «Капитал»? Что там, впереди светит?
ДМ: закончим в стиле социологического пророчества. «Балтийские русские» – это собирательное название международной общности соседского типа. Как фрагмент большой интернациональной общности русских Европы мы уже нарисовались, и у нас хорошие перспективы. Такой книги еще нет, но это будет очень интересный самоучитель североевропейца. Не совсем типа Торы, но и не «Капитал». Скорее, что-то вроде «Политий» Аристотеля, или типового Устава русских культурных автономий. Если ограничится нашим северным Питерским концом, то это будет путеводитель по крупнейшему в Европе поясу автономных русских общин. Если раньше мы «промывались» мощным миграционным потоком с востока, то сейчас мы заперты в этом гигантском коридоре одного из европейских мегалополисов, то есть волновой процесс миграционного обмена с Петербургом будет перестраиваться на североскандинавский манер: «нерусский» Петербург, это гигантское европейское сердце России, построен как бы в предвосхищении своей будущей роли. Он будет ритмично вбирать в себя волны старожильческих русских из Прибалтики и выбрасывать в диаспору волны нового поколения еврорусских. Даже если 1/4 их будет ассимилироваться в соседних национальных государствах (такова, оценочно, потеря через смешанные семьи в третьем поколении), остальные 1-2 миллиона человек могут стабильно воспроизводится в ценностном поле интегрирующеся Европы. Нарвский регион при этом полностью развернет свой гигантский экотонный (скопление всевозможных границ) потенциал и станет одним из самых крупных и процветающих регионов Северной Европы вообще. Здесь уже народилось третье поколение патриотов своего Края. Их долготерпение будет вознаграждено.
Таковы контуры возможной книги, появление которой я бы приветствовал сегодня. Может, я даже успел бы написать несколько абзацев к ее введению. Есть, конечно, много хороших книг, рассказхывающих о европейской судьбе русских. «Дорога длиною в 1000 лет» и другие специальные монографии Сергея Исакова, например «русское национальное меньшинство в эстонской республике (1918 -1940). Есть саги о походах викингов на Русь, о заложенной ими регулярной структуре портовых городов (виков) по всей Прибалтике и Европе. Есть «Энциклопедия дачной жизни» Стрелкова о курорте Гунгенбург – Усть-Нарве, есть отдельная история жизни и творчества дачника Игоря Северянина, «короля русских поэтов», застрявшего в Эcтонии… Но это уже не по моей части.
http://furych.livejournal.com/29212.html#cutid1